Главная 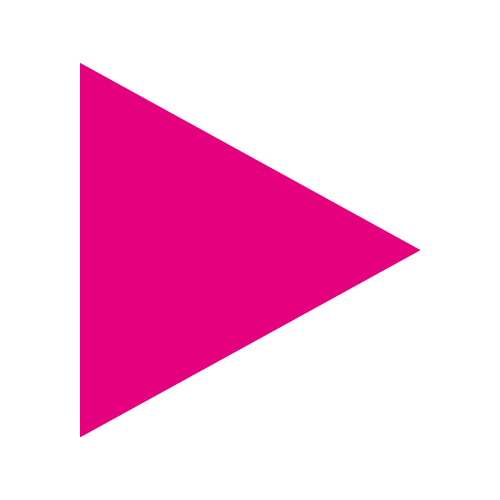 Машина времени
Машина времени 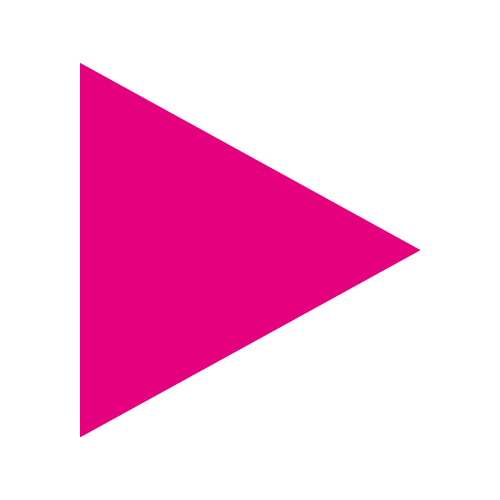 1986
1986 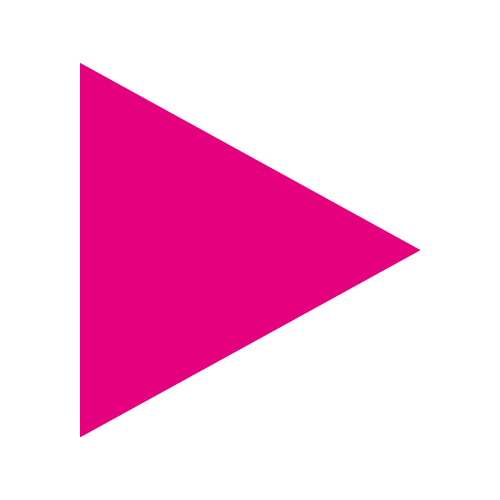 6 марта
6 марта 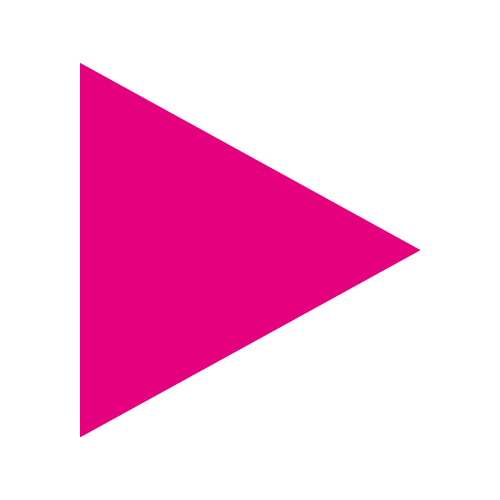 Александр Яковлев
Александр Яковлев
Александр Яковлев
 Другие статьи
Другие статьиБеседа писателя и журналиста Дмитрия Быкова* с академиком РАН, однним из главных идеологов, «архитекторов» перестройки Александром Яковлевым (1923-2005), 1999 год.
Александр Яковлев: "Сам собой в обществе может установиться только блатной закон"

Дмитрий Быков*: Сколько было смешных словосочетаний, Господи помилуй! И смешных титулов! Александр Николаевич Яковлев удостоился всех: прораб духа, прожектор перестройки, агент влияния, могильщик СССР, архитектор демократии, мистер гласность.
Александр Николаевич, российский парламент многократно доказал собственную ненужность. Может, нам без него будет лучше?
— Разогнан президентской властью может быть почти любой парламент. Или вы думаете, что японские, например, парламентарии могут три раза подряд безнаказанно проваливать премьера? Нет, Дума нужна, хоть такая, — беда только в том, что коммунисты в тех или иных модификациях составляют две трети депутатов. Коммунисты необходимы Ельцину, они его гарант: если бы не Зюганов, кто знает, как закончились бы выборы позапрошлого года. Лебедь — куда более сложный конкурент. Так что у Ельцина и коммунистов симбиоз, они взаимозависимы, а пока эта публика составляет парламентское большинство, никакой законотворческой деятельности ждать не приходится. Мы находимся на уровне девяностого года. Россия проиграла две войны, а военной реформы нет...
— Почему две?
— Афганскую и чеченскую; или вы афганскую считаете нашей победой? Судебной реформы опять-таки нет, а ведь мы нация жалобщиков, наш девиз — «барин нас рассудит». Раньше в функции барина выступал обком, туда бежали с жалобами на неверность мужа и склочность соседей, — теперь все тянутся в суды, а в судах из-за чудовищной организации их работы и двусмысленности любого закона дело рассматривается годами, как в средневековье. Про земельную реформу, про гарантии государства для внешних инвестиций я вообще не говорю. В начале девяносто первого я с несколькими единомышленниками подготовил проект по шестнадцати первоочередным законам и подал его Горбачеву. Там было все перечисленное плюс еще несколько полезных вещей, но Горбачев был тогда одержим идеей союзного договора. В результате он не успел, а у тех, кто после него, совсем другие заботы.
— Вы помните свое первое впечатление от Ельцина?
— Ельцин по складу характера ортодокс. Вместе с тем, я помню, он верил в необходимость перемен, но кто же не верил? Это забылось, затерлось временем, а тогда степень отвращения к советской действительности была у всех примерно одинакова. Но перестройка (как, впрочем, и пугающая вас реставрация) слагается из двух вещей: первая — усталость от абсурда, а вторая — желание и способность делать что-нибудь новое. С усталостью тогда все обстояло нормально, с готовностью действовать по-другому — значительно хуже. Так что и сегодня, сколько бы люди ни ругали ситуацию, они отнюдь не торопятся назад.
— А Горбачев не торопился вперед...
— Не скажите. Горбачев безоговорочно превосходит Ельцина — хотя бы по человеческим качествам. Он обучаем, оперативен, умен...
— Не тоталитарен...
— Ну, тоталитарна всякая власть, иначе она не власть. Но Горбачев способен выслушать чужое мнение и скорректировать свое. Горбачева испортил Запад.
— Я думал, он его, напротив, спасал...
— Скорее губил. Там Горбачев вызывал восторг — все, что бы он ни делал, принималось на ура. В результате он к девяносто первому году перестал чувствовать ситуацию. Ему казалось, что все идет как надо. Инерция — первый враг действующего политика.
— У меня есть подозрение, что к середине девяносто первого он был очень не прочь навести железный порядок, только чужими руками...
— С одной стороны, он категорически отказался ввести чрезвычайное положение в экономике, как ему ни нашептывали. Я дословно помню его фразу: «Что ж, у каждой шахты часового ставить?» С другой — он дважды проталкивает через Верховный Совет Янаева. Премьером назначается Павлов. В «Правду» из «Учительской» перемещается нынешний спикер Селезнев, и «Правда» приобретает совершенно оголтелый характер. Наконец, я сам дважды открыто предупреждал его, что неизбежна попытка переворота: один раз мы говорили на эту тему в апреле девяносто первого, другой — в начале августа. Он не поверил. И все-таки я не думаю, чтобы эта шайка-лейка действовала с его санкции. Просто они поймали момент, когда он колебался.
— И могли победить?
— Да ну, глупости. Август 1991 года — вовсе не та веха, какую из него пытаются сделать. Никто никого не победил. Одна команда не вышла на поле, и ей засчитали поражение. Вы представляете Янаева в качестве главы государства?
— Павлова представляю.
— Павлов — хронический алкоголик.
— Крючков?
— Это вообще не политик. Он никогда вам не сможет объяснить, за что он любит социализм и не любит, например, евреев. Это у него на каком-то зоологическом уровне происходит. Кроме того, он неопрятен в быту. Никто из них, дорогой друг, никто не мог претендовать на первые роли в государстве. Но вся эта история положила конец эпохе Горбачева, а это уже серьезная беда. Я думаю, Горбачев вполне мог еще некоторое время находиться у власти и успеть осуществить хотя бы первые преобразования. Потому что с воцарением Ельцина возобладал очень примитивный взгляд на вещи: новая экономическая система сложится сама. Нужно дать работать каким-то стихийным силам, главное — не мешать им.
— Я даже помню какую-то печатную полемику: главная заслуга Ельцина в том, что он НЕ МЕШАЛ работать рыночным закономерностям.
— Ну вот: если им не мешать, то и складывается то, что мы имеем. Как ни грустно это звучит, но сам собой в обществе может установиться только блатной закон. Своего рода социальный дарвинизм, при котором выживает не столько сильнейший, сколько худший. А мы надеемся, что паханы наедятся, что мафия цивилизуется... Ну и что? Природа-то их не изменится, вот в чем дело. У нас нет сейчас никакого механизма, который позволял бы прорваться в государственное управление действительно талантливому человеку. Отсюда и массовое возвращение в большую политику экс-комсомольцев и экс-коммунистов.
— Кстати, а с бывшими членами Политбюро вы видитесь?
— Честно говоря, ни малейшего желания. Симпатизирую Шеварднадзе. Хорошо знаю Примакова — он совершенно не изменился еще с тех времен, когда оба мы были директорами институтов. Он — востоковедения, я — мировой экономики. Его последовательность в какой-то мере даже достойна уважения. Он, например, как считал, что мы продешевили с объединением Германии, так и до сих пор на этом стоит.
— Скажите, а как получилось, что первым человеком в государстве оказался Горбачев? Я слышал, вы лично были к этому причастны...
— Ну, я не преувеличиваю своих скромных курьерских заслуг. У Горбачева был один реальный конкурент — Гришин, но у него по-настоящему шансов не было. На Горбачева ставило большинство ЦК, все понимали, что он из самых перспективных и грамотных людей... Опасаться стоило только старых зубров, лидером которых считали Громыко. Я пошел к нему в надежде убедить не выступать против Горбачева. Андрей Андреевич намекнул, что засиделся в МИДе и давно видит себя на посту председателя Президиума Верховного Совета. Я с этим пошел к Горбачеву, и тот со своей стороны сказал, что всегда мечтал работать с Андреем Андреевичем. В результате, когда зашла речь о преемнике, Громыко всем на удивление первым предложил Горбачева.
— Он вообще был человек непростой, как тогда говорили...
— Я Громыко хорошо знал — в частности, когда я в семидесятых был фактически сослан послом в Канаду, он всякий раз, летя в Нью-Йорк, у меня останавливался. Мы встречались за обедом — я с женой, он с женой, больше никого. Двойственность этого человека меня поражала: с одной стороны, ортодокс и почти сталинист, с другой — отличная реакция, хороший английский и фанатичное увлечение историей русской общественной мысли. Однажды у нас зашла речь о только что опубликованной книге Пикуля «У последней черты»: она в сокращении печаталась в «Нашем современнике». Громыко поинтересовался моим мнением. Я честно сказал, что в историческом смысле это довольно дилетантская компиляция из хорошо известных источников, а пронизано все кондовым антисемитизмом, без всякой почти маскировки. Громыко, словно сам себе удивляясь, сказал: знаете, а ведь и мне так показалось! Изложите-ка ваши соображения в виде записки! Я набросал перечень претензий к роману, и его потом обсуждали на ЦК: я помню облегчение в кругах родной интеллигенции, когда Суслов обругал откровенно черносотенную книгу.
— Возвращаясь к восемьдесят пятому году: вы не допускаете мысли о том, что СССР мог преспокойно существовать в своем прежнем виде?
— Нет, есть убедительная книга Амальрика «Досуществует ли Советский Союз до 1984 года» — конечно, я ее тогда не читал, но все это носилось в воздухе. Страна была замилитаризована до абсурда: семьдесят процентов всех денег уходили на вооружение. На жизнь оставалась треть. В Политбюро не имели даже приблизительного представления об истинных масштабах этой милитаризации. Думаю, если бы не это, у каждой рядовой семьи сейчас было бы по двухэтажному коттеджу.
— Есть версия, что Андропов собирался развязать третью мировую — в частности, в книге Соловьева и Клепиковой...
— Не думаю, что лично Андропов. Просто концепция российской внешней политики была такова — тут не надо особо утруждать себя доказательствами. По-вашему, танк — это средство обороны? А мы по количеству танков превосходили все страны мира. А понтонные переправы? А шесть тысяч боеголовок? Для обороны достаточно десяти, если, конечно, не промахиваться... Разумеется, вся советская военная махина была ориентирована на то, чтобы развязать войну. Иначе зачем шестимиллионная армия? Для ядерного сдерживания, может быть? Впрочем, армия-то свое дело делала. Через нее, как через мясорубку, ежегодно прокачивалась самая активная и здоровая часть населения, чтобы вернуться оттуда с твердым пониманием: инициатива наказуема, сила есть право, унижение есть норма... Это была такая школа жизни для всех. Почему, собственно, у нас и наемной армии нет до сих пор, и военная реформа стоит: надо же молодым где-то проходить курсы унижения и жестокости!
— Между прочим, чем больше ругают Ельцина, тем крепче в народе убеждение, что Андропов начинал все правильно, только не успел.
— Он не успел, и в силу этого у народа не было времени его разглядеть. У меня с Андроповым были очень плохие отношения, он еще в бытность мою послом в Канаде регулярно предлагал меня заменить, потому что я, по его мнению, недостаточно убедительно прикрывал резидентуру. Это вообще было для меня мучительно — постоянно врать, при моей личной дружбе с Трюдо. Громыко и защищал меня, используя этот аргумент: ни у одного больше посла нет таких отношений с премьер-министром! Конечно, мне было стыдно, когда ежегодно из страны высылали одного-двух сотрудников посольства (я вынужден был писать возмущенные ноты), а один раз их вылетело сразу тринадцать! Тогда одна канадская газета написала, что в посольстве СССР все шпионы, кроме Яковлева. Я даже послал им обиженное опровержение: что это значит? вы меня считаете человеком без способностей?! Они очень веселились...
Андропов был классический неосталинист, деливший партию на большевиков и коммунистов. Коммунисты — это приспособленцы, аппаратчики, а большевики — железное ядро, фанатики. Ни Западу, ни социалистическому лагерю он не доверял в принципе, помня свой венгерский опыт. Кстати, и насчет Афганистана решающий нажим принадлежал ему. Никакой перестройкой не пахло, разило репрессивным социализмом образца тридцатых, почему и началось с облав. Одну такую облаву он попытался устроить у меня в институте: я прихожу и вижу около вахты нескольких молодых людей в костюмах. Стоят, фиксируют опоздания. Я тихо интересуюсь у вахтеров: кто пустил? Они отвечают: распорядился ваш заместитель, это из райкома... Я спрашиваю: товарищи, в чем дело? Они в ответ: «А вы не понимаете? Идет проверка состояния трудовой дисциплины. И вообще — кто вы такой и почему опаздываете?» Они, понимаете ли, не смекнули, что я директор. Я при них вызвал того заместителя по хозчасти, который их велел пустить, — трус был ужасный, — и объявил ему выговор, а их попросил вон. На следующий день помощник Андропова, Вольский, сказал мне, что я правильно сделал.
— Аркадий Вольский? Нынешний предприниматель?
— Да, он работал тогда у Андропова. Вообще все разговоры о том, что вот мог бы еще Советский Союз существовать себе по-прежнему, очень меня забавляют. Ну представьте: проходит еще четыре года, и тут Интернет! Что с этим сделаешь? Если бы советская империя не была уничтожена перестройкой и гласностью, она была бы куда быстрее уничтожена Интернетом, только попытайтесь вообразить появление сети в рамках тоталитарной идеологии. Замкнутые империи обречены, от глобализма никуда не денешься. Так что я преклоняюсь перед нашим народом, я боготворю его — за тот инстинкт перемен, который ему задолго до восемьдесят пятого подсказывал: пора переделывать страну.
Пора начинать думать в новых категориях: вот вы говорите, что боитесь политической цензуры. Но это смешно, ей-богу: при наличии Интернета — какая цензура? У нас в Фонде защиты демократии, коего я председатель, задержали на таможне несколько CD-дисков с нужными программами. Так мы и скандалить не стали, плюнули и через час скачали себе все эти программы без всякой таможни. Это и есть глобализм. Другое дело, что Интернет несет опасности ничуть не меньшие, чем цензура: это прежде всего унификация культуры, снижение ее планки. Культура становится доступна для всех и, главное, лишается отличительных местных черт. Не говоря уже о том, что всякий имеет возможность засорять информационное пространство графоманией. Но в этом новом мире предстоит жить не мне и даже не вам. Мы, несмотря на разницу в возрасте, — старые дети, играющие в старые игрушки: диктатура, парламентаризм, цензура, гласность, права... В глобальном мире будут жить новые люди.
— Это кто же, например?
— Мой младший внук, ему сейчас пять лет.
— К вопросу о светлом будущем: вы можете хотя бы приблизительно спрогнозировать предвыборную ситуацию 2000 года ?
— Я не думаю, что Ельцин пойдет на эти выборы. Гриша Явлинский, который начинал при мне и, смею думать, не без моей помощи, — человек несомненно одаренный, но делает сейчас опасный крен, перетягивая одеяло на себя. Он начинает выглядеть самым честным, бескомпромиссным, незапятнанным (его партии при этом вообще не видно) — в общем, впадает в самоупоение. Опасен Лужков. Опасен в том смысле, что у этого человека появилась иллюзия, будто можно сохранить демократию, управляя при этом авторитарными методами. Он уже бесстрашно демонстрирует кулак. Это началось, когда он еще при Попове отвечал за снабжение Москвы овощами. Сегодня он использует патриотическую демагогию, но не в ней дело: он выстраивает себе имидж сильного руководителя. А при руководителе, опирающемся на кулак, в стране не будет ни свободной экономики, ни сильного закона. Как мэр он хорош, как президент — пугающ. Лебедя я глубоко не уважаю.
Прежде всего — за лживость. Он в своих мемуарах приписал себе какую-то речь на двадцать восьмом съезде, которого был делегатом, — в ней он якобы разоблачал меня... Да никакой он речи не произносил, крикнул из зала: «Сколько у вас лиц, товарищ Яковлев?!» Я ему тогда отвечать не стал — ну что я буду на каждый крик из зала реагировать? — а сейчас мог бы с полным правом спросить: а у вас, господин Лебедь? За ним не раз уже замечены предательство, ложь, манипулируемость... Из тех, у кого есть реальные шансы выиграть выборы 2000 года, мне не нравится никто. Поэтому, если бы меня спросили, я бы посоветовал не откладывая раскручивать другие кандидатуры — более приемлемые для мыслящей части страны, но привлекательные для остальной ее части. Если нужен генерал — пусть это будет Николаев, а не Лебедь: он тоже, конечно, замечен в патриотической демагогии и любим частью патриотов, но это уж непременная часть генеральского имиджа, а человек он порядочный и образованный. Я не исключаю, что хорошим президентом для России мог бы стать Шаймиев...
— Не пройдет. Национальное меньшинство.
— Одного нацмена тридцать лет терпели, да с каким энтузиазмом!
— А у Селезнева есть шансы?
— Селезнев до такой степени посредственность, что говорить об этом человеке всерьез я не могу. Когда-то его из главных редакторов «Комсомолки» готовили на пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Особенно усердствовал орготдел ЦК КПСС — самый консервативный. Я тогда решительно воспротивился, потому что могу уважать несгибаемого ортодокса, как бы враждебен он мне ни был, но человека без убеждений уважать не стану.
— Зюганов?
— Нет, это пройденный этап. Он и сам не допускает мысли о победе.
— В официальную политику вернулся Березовский (неофициальной он не покидал). Как вы к нему относитесь?
— А что, с уважением. От друзей-математиков я знаю, что он отличный специалист в своей области. Он гениально считает комбинации и может принести большую пользу на государственной службе.
— Мы вполне успели убедиться, что у большинства населения короткая память: абсурд зрелого социализма забыт, вас наверняка постоянно ругают за развал великой державы и за пролившуюся кровь...
— Я уже привык быть агентом влияния. В каком-то смысле я им и был. Так и напишите.
— Сенсация.
— В 1985 году, после семидесяти лет самоубийства, когда страна уничтожала свой мозг, истощалась бешеной милитаризацией, тупела, нищала, становилась грозой и посмешищем мира, — всем без исключения было ясно, в какой бездне мы находимся. И если разрешить человеку вслух говорить об этом значит быть агентом американского империализма, то я агент. Если забота о правах человека — западная диверсия, я диверсант. Если покуситься на всесилие органов значит предать свою Родину, то у нас с моими обвинителями разные понятия о Родине. Я сегодня счастливый человек, делайте со мной что хотите. Да, ни одна из необходимых реформ не проведена до конца, — но разве это компрометирует демократию как таковую? Россия — свободная страна, и перемены в ней неизбежны, это главное. Назад ее не загонишь. Все это можно было сделать быстрее, безболезненнее, лучше. Не получилось. Но это не значит, что я от чего-то отрекся. Несмотря на нищих в переходах, на войны на окраинах, на беженцев, на безработицу, на новых русских со всеми их прелестями — сегодня страна все-таки лучше, чем пятнадцать лет назад. Она все равно построит нормальное общество. Только можно начать это делать сразу, а можно от противного. У нас будет от противного.
— К вопросу о короткой памяти народа: как к вам сейчас относятся люди, в восьмидесятых всецело зависевшие от вас? Редакторы, журналисты, политологи?
— Я всегда знал, кто искренне ко мне расположен, а кто льстит. Люди, когда-то присылавшие мне свои книги с во-от такими автографами, совершенно обо мне забыли. Меня не пригласили на последний съезд Союза журналистов. Потом извинялись: это девочки в секретариате вас забыли... Ну, говорю, какие же претензии к девочкам! А те, с кем я дружил и кого любил, остались моими друзьями. В первую очередь Григорий Бакланов и Егор Яковлев.
— Вы занимаетесь сейчас только фондом?
— Нет, я еще возглавляю комиссию по реабилитации жертв репрессий. Но вы правы — главные мои интересы связаны с фондом. Мы задумали сорокапятитомную серию: белые пятна советской истории. Уже вышли пять томов, в том числе Кронштадт, дело Молотова—Маленкова—Кагановича... Потом будем издавать серию внешнеполитических секретных документов. Сейчас нам передали архив Сталина: спасибо. Как и в любом архиве, там много неинтересного, но переписка, например, с Кагановичем — это что-то фантастическое. Прежде всего по дикой жестокости, которую проявляет Каганович (да и другие члены сталинского правительства) ради доказательства своей преданности. Все это мы будем публиковать.
— Сейчас многие гордо носят свои советские награды. Например, звание Героя Социалистического Труда. А вы?
— А я не Герой Социалистического Труда. Даже ордена Ленина у меня нет, хотя я часто писал представления на своих подчиненных. У меня орден Красной Звезды — хороший офицерский орден, орден Боевого Красного Знамени — тоже уважаемая боевая награда, медаль «За оборону Ленинграда», орден Дружбы народов... а из новых — орден Сергия Радонежского. За содействие в возвращении Русской православной церкви нескольких монастырей. Хотя я не очень люблю официальное русское православие.
— Я слышал, вы написали книгу о буддизме, ее издал «Вагриус»... Но она практически недоставаема.
— Да, она вышла три года назад и быстро разошлась. Видимо, это действительно для многих была неожиданность, но я симпатизирую буддизму. И давно. Мое «Постижение» не претендует ни на какую полноту. Это рассказ о том, что буддизм дал лично мне. Кроме того, еще в Канаде я интересовался живущей там общиной духоборов. О них тоже есть в книжке.
— Родная интеллигенция вам за эти годы не опротивела?
— Ох, как у меня иной раз не хватает злости при виде родной интеллигенции! Как только она не предала себя за это время! как только не лизала власть! как только не сдавала своих позиций! В каком-то смысле интеллигенты, больше всех заинтересованные в перестройке, часто вели себя хуже всех. Ноют сейчас, что культура избавилась наконец от государственного гнета и патронажа. Очень легко все забыли и ударяются в самую бессовестную ностальгию. И все-таки я уверен, что именно интеллигенция — лучшая, надежнейшая ее часть — и есть главное сокровище России. И когда ей дали наконец свободу говорить, думать, писать, — это были лучшие годы нашей жизни.
Текст приводится по изданию: Быков* Д.Л. И все-все-все: сб. интервью. Вып. 2 / Дмитрий Быков*. — М.: ПРОЗАиК, 2009. - 336 с.
*Российские власти считают Дмитрия Быкова иностранным агентом
Обзоры
статьи о данном событии
 Александр Яковлев: "Сам собой в обществе может установиться только блатной закон"
Александр Яковлев: "Сам собой в обществе может установиться только блатной закон"Беседа писателя и журналиста Дмитрия Быкова (российские власти считают его иностранным агентом) с академиком РАН, одним из главных идеологов, «архитекторов» перестройки Александром Яковлевым (1923-2005), 1999 год.

